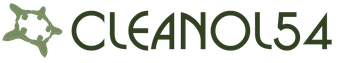Чапаев и пустота. Чапаев и пустота, пелевин виктор Роман «Чапаев и Пустота»
Название романа сродни человеческому имени и, по о. Флоренскому,
может либо возвышать по своей сути, либо, в случае разрыва между
заданным и реализуемым смыслом, становится причиной раздвоенности.
Название романа В. Пелевина концептуально. Оно именует происходящее
действие, и в таком качестве включается в ряд «концептуальных»
названий: «Отцы и дети», «Преступление и наказание», «Война и
мир». Разница в том, что вместо имен нарицательных Пелевин использует
имена собственные, тем самым встраивая своих героев в иной ряд:
«Тарас Бульба», «Обломов», «Анна Каренина». Уже в этом проявляется
вполне буддийская логика: «А не есть А. Это и называют А». Чапаев
есть фамилия (единичное) и в то же время есть понятие (общее):
«Чапаев есть личность и Чапаев есть миф». Отсюда: личность есть
миф, но поскольку миф не есть личность, то «Чапаев не есть Чапаев.
Это и называют Чапаев». Пустота есть фамилия (личность поэта-комиссара)
– и пустота есть понятие, отсюда: фамилия есть понятие; отсюда:
фамилия есть обозначение общего (по Ж. Деррида, имя исторического
деятеля может «выступать метонимией» логоцентрических понятий),
отсюда: общее (в нашем случае – Пустота) есть обозначение личности,
т.е. личность есть пустота, т.е. «личность не есть личность. Это
и называют личностью».
Таким образом, имена героев обретают метафизический статус: они
значат больше, чем обозначают. Перед нами яркий пример общей тенденции
в современной прозе – деперсонализации героев. Героями становятся
определенные рациональные/иррациональные сгустки авторской воли
(поэтому столь часты обращения к Ницше, Фрейду, Юнгу не только
в романе Пелевина, но и в других современных «текстах»). Современный
герой есть бегство от героя, отсюда столь яркое обезличивание
– персонажи современной прозы напоминают в лучшем случае восковых
двойников «реальных» персонажей XIX века. Если В. Розанов уже
героев Н. Гоголя называет восковыми фигурами, то нынче перед нами
разворачивается возведенная в квадрат платоновская метафора: тени
на стенах пещеры отбрасывают тени на сознание тех, кто спит в
пещере. Привычный нам герой русского романа – с четко описанной
физической оболочкой, личностным набором движений и жестов и индивидуальной
внутренней жизнью (в пределе возведенной М. Бахтиным к воплотившимся
в тела героев Достоевского идеям) – растворяется в пространстве
вне- и безличностного мира. Если герой прошлого есть интенциональная
уплотненность в сфере идеального представления автора о самом
себе, то герой нынешний есть беглец от своего Я к другому, где
другое – совсем не обязательно личность. Это может быть как некое
деяние-состояние («автоматическое письмо» сюрреалистов или «метафизика
мгновения» Г. Башляра), так и размышление-игра (рациональные конструкты
Х. Борхеса, иррациональные – Х. Кортасара, или многоуровневая
символика жизни-как-игры в романах У. Эко и М. Павича).
Не случайно герой Пелевина – Петр Пустота – признается лечащему
врачу: «Моя история с самого детства – это рассказ о том, как
я бегу от людей». Не случайно жизнь для него – «бездарный спектакль»,
а его «главная проблема – как избавиться от всех этих мыслей и
чувств самому, оставив свой так называемый внутренний мир на какой-нибудь
помойке». И это не продукт «модного в последние годы критического
солипсизма», о чем честно предупреждает во вступительном слове
Урган Джамбо Тулку VII – одна из масок автора. Подобный персонаж
втягивает нас именно в атмосферу спектакля (сцена присутствует
в первой и последней главах романа), тем более, что уже в первом
абзаце Урган Тулку предупреждает об упущенном жанровом определении
– «особый взлет свободной мысли». Предупреждение это ложно: «жанровое
определение» фигурирует в тексте романа еще дважды – в истории
болезни П. Пустоты, где оно приписывается самому больному, и в
диалоге Пустоты с бароном Юнгерном (барон – современный коллега
Воланда, заведующий «одним из филиалов загробной жизни»).
Обыгрывая в романе известные культурные сюжеты, Пелевин создает
их довольно остроумные варианты: известный сон Чжуан-цзы в пересказе
Чапаева звучит примерно так – китайскому коммунисту Цзе Чжуану
снится, что он бабочка, занимающаяся революционной работой, за
что его/ее ловят в Монголии и ставят к стенке. Удачна в устах
Чапаева интерпретация кантовского афоризма: «Что меня всегда поражало,
<...> так это звездное небо под ногами и Иммануил Кант внутри
нас».
Чужие идеи, приемы, темы становятся своеобразными интеллектуальными
костылями – без них основная идея романа превращается в описание
того, как Художник (=поэт Петр Пустота) недоволен окружающим миром
(= «новорусский период» современной отечественной жизни) и бежит
от фантома первоначального накопления капитала в созданный своим
воображением мир (= «Внутренняя Монголия», что, по определению
барона Юнгерна, главного специалиста в потусторонних делах, означает
«место, откуда приходит помощь» и, одновременно, место «внутри
того, кто видит пустоту», т.е. просветленного).
Пустота (санскр. «шуньята») – одно из основных понятий буддизма.
Древнейший комментатор проповедей Будды, Нагарджуна, истолковывая
знаменитую «Алмазную сутру» («Ваджраччхедика-Праджняпарамита-сутра»)
приводит «18 способов описания пустоты». Современный буддолог
Д. Дандарон сводит их к 4-м основным «шуньятам». Броневик Чапаева,
на котором Пустота совершает побег в пустоту, не случайно имеет
щели, похожие на «полузакрытые глаза Будды». И сам побег есть
вариации на тему буддийского «освобождения» от мира страданий.
Только отказавшись от своего «иллюзорного» Я и веры в реальность
окружающего мира, через «просветление» как «осознание отсутствия
мысли», можно достичь «состояния будды», т.е. нирваны.
Нирвана есть Ничто, Никто, Нигде. Чапаев, Учитель-бодхисаттва
для Петьки, Анки и Г. Котовского, радуется, услышав от ученика
(Петька – «шравака», «тот, кто достигает просветления при помощи
Учителя») ответ на вопрос: «Кто ты?» – «Не знаю»; «Где мы?» –
«Нигде» и т.д. Осознание себя и мира как Пустоты есть последний
этап на пути к Нирване, есть сама Нирвана, которую уже описать
нельзя. Пустота – лейтмотив книги, ключевое слово, которое Пелевин
обыгрывает во всевозможных вариантах. Пустота – не сквозная тема,
объединяющая разные мотивы (так построены Вагнеровские оперы»),
скорее – нарастание единого мотива.
Главный герой страдает «раздвоением ложной личности», причем ложная,
с точки зрения врача, личность есть личность истинная с точки
зрения Чапаева и самого Пустоты. Раздвоение позволяет герою быть
попеременно то пациентом сумасшедшего дома в Москве 90-х годов,
то поэтом и комиссаром в период Гражданской войны. Чапаев – «один
из самых глубоких мистиков» – выводит Петьку из мира несовершенной
реальности, где остаются со своими видениями соседи по палате
– Володин, Сердюк и просто Мария. Композиция романа представляет
упорядоченную смену «видений» каждого из пациентов дурдома и «реальности»,
представленной как врачом-психиатром Тимур Тимуровичем, так и
Чапаевым, Котовским, Анкой, бароном Юнгерном. Вторая реальность
противопоставлена первой. Излечение Петьки соответствует эпизоду
«гибели» Чапая в уральских волнах. В финале вечно живой Чапаев
вывозит Пустоту из современной Москвы на броневике на другой берет
– во «Внутреннюю Монголию».
Если буддийская нота, например, в романах Г. Газданова – спонтанна,
не связана с реальностью и не отсылает к сопряженным культурным
реалиям, то «спонтанность» пелевинских героев весьма окультурена,
рационализирована. Пелевин, видимо, как большой знаток Востока,
весьма искусно использует один из распространенных приемов японской
дзен-буддийской поэзии – хонкадори, что означает включение в свой
текст чужого текста или определённых фрагментов (здесь, увы, первенство
принадлежит не доморощенным постмодернистам и даже не Лотреамону).
Средствами элитарной культуры выражаются реалии массового сознания.
Тыняновская теория архаистов и новаторов работает с обратным знаком:
новый прием, пародируя сам себя, тут же превращается в архаический,
что служит его повторному пародированию. Круг этот бесконечен,
а точнее – безначален. И герои, и приемы движутся по замкнутому
кругу, как вновь возникающие во временной петле лемовские космонавты
Тихие. Если проза Набокова эксплуатирует два приема (прием открытого
типа, создающий новые смыслы, и прием закрытого типа, используемый
как замкнутое-на-себя украшение), то у Пелевина встречается третий
тип приема – саморазрушающий. Игра теряет функции игры, поскольку
играть в смерть не получается.
Умирают всерьез.
Если перечислить хотя бы частично набор культурологических реалий
романа, получится нео-Даль в транскрипции Эллочки-людоедки, либо
словарь той же Эллочки в степени п, где п – количество услышанных
книг. Вот некоторые; названия: «сила, надежда, Грааль, эгрегор,
// вечность, сияние, лунные фазы...», Юнг, Ницше, Шварценеггер,
Ом, Беркли, Хайдеггер» (круг чтения Пустоты), Бердяев, Брюсов,
Л. Толстой, Б. Гребенщиков, мантра и т.д. Вся эта псевдопневматосфера
выражена автором с неподдельной иронией, являющейся некоторым
противовесом пелевинскому же пафосу в изложении духовных истин.
Сами же истины могут затронуть лишь читателя, для которого что
Будда, что Чапаев, что Брежнев – персонажи народных сказаний.
В раннем буддизме существовал жанр джатаки – доступного для широких
масс предания (сказки или басни) о предыдущих перерождениях Будды.
В советское время ему соответствовал жанр анекдота, одним из постоянных
героев которого был как раз Чапай. Так что роман Пелевина являет
образец советского богоискательства. Герои его выражают «единственно
верную» идеологическую линию, только вместо марксистско-ленинской
они озвучивают линию столь популярного ныне социалистического
оккультизма. Если раньше Чапаев излагал идеи вождей Интернационала,
то теперь он цитирует новых Учителей. «Эх, Петька, – сказал Чапаев,
– объясняешь тебе, объясняешь. Любая форма – это пустота. – Но
что это значит? – А то значит, что пустота – это любая форма».
«Форма есть пустота, пустота и есть форма» – это слова бодхисаттвы
Авалокитешвара из «Хридая-сутры». Сравнивайте и просветляйтесь!
В буддизме достижение Нирваны связывают с преодолением реки. Для
обозначения «переправы к Нирване» используется специальный термин
«парамита» («то, что перевозит на другой берег»); по-китайски
это звучит еще отчетливей: «достижение другого берега», где другой
берег – метафора Нирваны. Чапаев расшифровывает слово Урал, как
Условная Река Абсолютной Любви – таким образом, его смерть в уральских
волнах есть всего лишь переход к нирване. Поэтому в финале романа
Чапаев и Анка вновь живы. При этом важно, что у Чапаева отсутствует
левый мизинец. Он ранее был использован Анкой как «глиняный пулемет»,
т.е. мизинец будды Анагамы, который, указывая на что-либо, уничтожает
это что-либо (нирвана есть абсолютная энтропия, то есть полное
отсутствие) и с помощью которого Анка распылила пьяных ткачей
во главе с желавшим убить Чапая Фурмановым. Это отсутствие мизинца
указывает на то, что сам Чапай является буддой.
Такое косвенное объяснение действительного хода вещей срабатывает
в единственной любовной сцене романа. Петр добивается любви Анны,
и после прочтения его стихов она сама приходит к нему. Во время
свидания, плавно переходящего в интимный акт, Анка и Петька ведут
философский диалог. Петр сравнивает красоту с «золотой этикеткой
на пустой бутылке». Проснувшись, он понимает, что ничего с Анкой
не было – все привиделось. Но в финале Чапаев протягивает Петьке
«пустую бутылку с золотой этикеткой», которую получил от неслучившейся
любовницы Анки.
Отдавая Анке приказ стрелять из «глиняного пулемета», Чапаев кричит:
«Огонь! Вода! Земля! Пространство! Воздух!», что в индуизме, в
учении Санкхья, соответствует пяти физическим элементам: «эфиру,
воздуху, огню, воде и земле» (в упанишадах эти элементы лежат
в «основе всего сущего»).
Мотив преодоления реки возникает в самом начале романа, когда,
двигаясь по холодной революционной Москве, Пустота размышляет
о том, что «русским душам суждено пересекать Стикс, когда тот
замерзает, и монету получает не паромщик (паром – «парамита».
– А.З.), а некто в сером, дающий напрокат пару коньков». К сожалению,
реальным главным героем романа и является «Некто в сером», определить
которого не составляет труда по его отношению к Христу. Такого
количества разоблачительной антихристианской риторики не встретишь
даже в учебниках научного атеизма. Ходасевич писал, что погружение
в мир есенинской «Инонии» невозможно для христианина без водолазного
костюма. Для погружения в пелевинский мир нужен уже батискаф.
Вот некоторые примеры осмысления Пелевиным христианских сюжетов.
Используя многочисленные Евангельские сопоставления Христа с Женихом,
автор описывает бредовые видения больного «Марии»: «Мария с радостным
замиранием сердца узнала в Женихе Арнольда Шварценеггера... –
О, дева Мария, – тихо сказал Шварценеггер... – Нет, милый, – сказала
Мария, загадочно улыбаясь и поднимая сложенные руки к груди, –
просто Мария». Во время прямолинейного каламбура происходит сразу
два кощунственных отождествления. Другой больной, Володин, переиначивает
сюжет Преображения. Нетварный свет, сходивший в Евангелиях на
Христа с небес, он ассоциирует с самим собой («Я им являюсь»).
Речь идет о рисунке Володина, на котором изображено «снисхождение
небесного света» на двух его ассистентов-уголовников (сам Володин
из «новых русских»), которых он называет «ассенизаторами реальности».
В Евангелии свидетелями Преображения становятся апостолы...
Описывая полет больного, отождествляющего себя с «просто Марией»,
автор достигает «высоких» метафорических прозрений: «Повсюду блестели
купола церквей, и город из-за этого казался огромной косухой,
густо усыпанной бессмысленными заклепками». Для Сердюка, третьего
соседа Пустоты по палате, «главная духовная традиция» русских
– «замешанное на алкоголизме безбожие». Его собеседник по бреду
– Кавабата («не писатель Кавабата, но довольно хороший» коммерсант
Кавабата – след Гоголя) – предлагает вниманию публики «русскую
концептуальную икону» Давида Бурлюка: слово БОГ, напечатанное
«сквозь трафарет». Комментарии таковы: «Трудно поверить, что кому-то
может придти в голову, будто это трехбуквенное слово и есть источник
вечной любви и милости...» По мнению японца, «полоски пустоты,
оставшиеся от трафарета», «ставят ее (икону. – А.З.) ... выше
«Троицы» Рублева.
В обсуждении духовных тем отличаются и новые русские уголовники,
дружки Володина по видению. Шурик «прозревает» так: «...может,
не потому Бог у нас вроде пахана с мигалками, что мы на зоне живем,
а наоборот – потому на зоне живем, что Бога себе выбрали вроде
кума с сиреной». Колян, кореш Шурика, отвечает: «Может, там, где
люди меньше говна делают, и Бог добрее. Типа в Штатах или там
в Японии». Вжился автор в чужое сознание, вжился. Володин, комментируя
этот диалог, демонстрирует интеллигентный современный плюрализм:
«...кто же был этот четвертый? ... Может быть, это был дьявол...
Может быть, это был Бог, который, как говорят, после известных
событий предпочитает появляться инкогнито...»
Впрочем, комментарии, оказывается, принадлежат перу Пустоты, который,
по собственной же характеристике, «в глубине души... не был в
достаточной мере христианином». Вот она, формула «почти христианина»:
«Может – дьявол, может – Бог, может – еще кто». «Кто еще» – знают
два «просвещенных», то есть просветленных персонажа – Чапаев и
барон Юнгерн. По Юнгерну, Рождество вовсе не тот праздник, который
празднуется «у католиков... в декабре, у православных в январе»
и – «на самом деле все было в октябре», когда Гаутама «сидел под
кроной дерева» в ночь своего прозрения. Все «откровения» героев
Пелевина вытекают из афоризма героического комдива: «Весь этот
мир – это анекдот, который Господь Бог рассказал самому себе.
Да и сам Господь Бог – то же самое». «Просветленный» Чапаев говорит
здесь вполне в духе Чапаева-большевика.
Если мы проследим историю культовых интеллигентских книжек, то
«Чапаев и Пустота» вполне встанут в определенный ряд: «Иуда Искариот»
Л. Андреева, «Хулио Хуренито» И. Эренбурга, «Мастер и Маргарита»
М. Булгакова, «Альтист Данилов» В. Орлова. Все эти книги объединяет
то, что о Г. Флоровский назвал «мистической безответственностью».
«Образованного» читателя, а точнее, по А. Солженицину, образованщину,
привлекают исследования в сфере «духовности». При этом совершенно
не важно, какие мысли озвучивают герои популярной литературы:
«особый взлет свободной мысли» не проводит разграничений между
Богом и дьяволом, Добром и Злом. Главное: определенные духовные
метки, мутноватая эзотерика, игра смыслами – эдакий заменитель
напряженной духовной жизни, мучительного поиска Бога Истинного,
или хотя бы боли от пребывания в богооставленном мире. Популярность
романа понятна. Пелевин талантливо показывает путь к потере дара,
того самого евангельского таланта, который не был приумножен рабом.
Вместо реальной Любви, роман предлагает раствориться в Условной
Абсолютной Любви. Все в мире условно – и Любовь условна. А значит,
можно не страдать, не мучаться, не болеть. Значит, бегство от
действительности, столь милое нашему потерянному поколению, –
путь к спасению. Бегство, а не преображение действительности.
Если перечисленные в начале названия предлагают пары-оппозиции,
дающие свободу выбора (война-мир, преступление-наказание), то
пелевинское название – духовный блеф. «Чапаев» и «Пустота» есть
одно и то же. Нет ничего кроме Пустоты, и противопоставить ей
что-либо Пелевин не может. Да и не хочет.
Впрочем, «шуньята» («пустота») по-китайски звучит как «кун». Можно
ожидать продолжение, например, «Штирлиц и Бела Кун». Метод есть.
Когда-то на мехмате мы придумали математику, в которой все делилось
на 0. В результате получалась бесконечность. Мы спорили, какая
бесконечность больше: 1/0 или 1000000/0? Так что делите на бесконечность.
В результате будет искомая Пустота – Ноль.
program of essentially opposing world image disembodiment. But from the very start of his opposition to emptiness there appeared many signs showing that a conspirator against non-being did not seem so utterly devoted to the declared ideas as one might expect him to.
Key words: being, non-being, symbolism, acmeism, facets, stone, emptiness.
В. И. Демин
МИФ О ЧАПАЕВЕ В РОМАНЕ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА «ЧАПАЕВ
И ПУСТОТА»
Статья посвящена анализу романов Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» и Дм. Фурманова «Чапаев». Автор рассматривает ключевые эпизоды мифа о Чапаеве в опыте соцреалистического и постмодернистского романа.
Ключевые слова: В. Пелевин, Д. Фурманов, литературный процесс 90-х гг. XX века, Чапаев.
Виктор Пелевин - один из самых обсуждаемых российских писателей, каждое новое его произведение порождает бурную дискуссию - как среди читателей, так и среди авторитетных литературных критиков. Многие из них, впрочем, склоняются к мнению, что «проект Ре^ут»1 исчерпал себя. Отношения самого писателя с критикой и критиками, высказывающимися в его адрес, - вопрос, требующий отдельного рассмотрения. Как заметил в своей статье «Технология писательской власти (О двух последних романах В. Пелевина)» М. Свердлов, «... Пелевин не любит оценки и классификации. Тем более он не любит тех, кто оценивает и классифицирует, - коллег-литераторов и, конечно, критиков»2. Не жалуя критику, Пелевин, однако, сам создает тексты, имманентно содержащие критический анализ современной ему литературы, становится своеобразным «барометром» текущего литературного процесса. Его произведения наполнены современными аллюзиями и параллелями, отсылками к продуктам массовой культуры, без знания которых зачастую трудно понять тот или иной фрагмент романа либо же повести (так, например, фрагменты романа «Чапаев и Пустота» будет затруднительно понять без знания сюжета «Терминатора» или сериала «Просто Мария»). Вместе с тем Пелевин актуализирует и другие, отнюдь не массовые пласты культурно-исторического знания. Одним из таких пластов является буддистский, постоянно присутствующий практически во всех произведениях писателя. Как отмечает Г. А. Сорокина, «.буддизм стал для автора плодотворным источником образотворчества, реализованного на основе современных реалий, представле-
1 Шайтанов 2003, 3.
2 Свердлов 2003, 33.
ний и знаковых систем. При этом происходит сближение архаичной символики и реалий современной жизни, что следует рассматривать как яркое интересное литературное и философско-культурологическое явление»3. Эзотеричность текстов Пелевина позволяет сопоставлять его романы с произведениями американского писателя, антрополога и этнографа Карлоса Кастанеды, чьим внимательным, но и ироническим читателем он является4. Еще одним средством создания интертекстуальной насыщенности произведений Пелевина является использование сказочных сюжетов. Марк Липовецкий, анализируя роман «Священная книга оборотня», выделяет три основных сказочных сюжета, присутствующих в этом тексте: сказка про Лису и Волка; аллюзии на «Аленький цветочек»; отсылки к «Крошечке-Хаврошечке»5.
Кроме названных трех пластов интертекстуальности, можно выделить и еще один: это отсылки к классическим произведениям литературы (Шекспир, Кальде-рон, Достоевский, Толстой). Постоянно используя материалы как массовой, так и элитарной культуры, Пелевин встраивает цитаты в совершенно иной контекст, тем самым обыгрывая на тематическом и идейном поле те произведения, из которых они заимствованы. Приемом интертекстуальной пародической игры писатель воспользовался также в одном из своих самых известных произведений, романе «Чапаев и Пустота». Это произведение представляет собой в некотором роде цитатную мозаику, сложенную из различных фрагментов. В предисловии Пелевин отсылает читателя к рассказу Борхеса «Сад расходящихся тропок» (в романе «Чапаев и Пустота» - «Сад расходящихся Петек»; своеобразный намек на психическое состояние Петра Пустоты, но также и на «фрактальность»6 романа самого Пелевина) и к стихотворению Николая Олейникова «Бублик» (в романе - «Черный бублик»). Пелевин смешивает, пусть и иронично, два пласта: пласт постмодернистской культуры и пласт культуры советской - тем самым, уравнивая их в контексте своего произведения. Уже здесь можно увидеть двойственность, которая является свойством романной действительности: действие происходит в абсолютной Пустоте (здесь, вероятно, «Пустота» выступает и как абстрактное философское понятие, и как определенный «топос» - сознание пациента психиатрической лечебницы Петра Пустоты), распадающейся на два временных пласта - революционный, после свержения власти царя, и постсоветский. Аллюзиями на постсоветскую действительность наводнена «современная» половина романа. Пелевин обращается к фильму Джеймса Кэмерона «Терминатор», к популярному в 1993-1994 годах в России сериалу «Просто Мария», к реалиям эпохи «первоначального накопления капитала» (у Пелевина в романе появляются и неудачливые предприниматели, и «новые русские»). Одним из наиболее явно присутствующих в тексте романа культурных артефактов является текст романа Дмитрия Фурманова «Чапаев» (1923) и кинофильм, созданный братьями Васильевыми на основе этого произведения.
Чапаев является для советской и постсоветской культуры одним из самых ярких и привлекательных образов. Подобный неподдельный интерес вызван, ве-
3 Сорокина 2007, 343.
4 Шохина 2006.
5 Липовецкий 2008, 650-652.
6 Пронина 2003, 5-30.
роятно, тем, что Чапаев представляет собой амбивалентный образ, схему, матрицу, реализовать которую можно по-разному - и на разных культурных уровнях. Если в советскую эпоху Чапаев приходил к читателю в первую очередь через роман Фурманова (1923) и порожденные им тексты1 и фильм братьев Васильевых (1934), то сегодня, когда соцреалистический роман утратил свою популярность, Чапаев становится героем серийных игровых квестов. Советская культура достаточно активно эксплуатировала образ Чапаева, постоянно множа полудокументальные повести для читателей взрослого возраста, переложения чапаевской биографии для детей и подростков. Интересно отметить, что в советской культуре и литературе в отношении Чапаева возникает явление, свойственное скорее массовой культуре и комиксам о супергероях - сегодня мы его назвали бы «прикве-лом», то есть рассказом о событиях, предшествующих основной части. Вместе с тем несомненно, что весь этот официальный корпус текстов о Чапаеве, «чапаевский эпос» является одним из средств идеологической обработки, в то время как народное творчество, анекдоты, отталкиваясь от официальной догмы, творило свою, неофициальную историю героя. Впрочем, ни официальная, ни неофициальная версии, разумеется, не ставили перед собой задачу прояснить исторический фон, мотивы действий Чапаева - то есть все то, что является объектом научного, исторического исследования.
Роман Фурманова был одним из знаковых произведений для своей эпохи. Связано это, вероятно, с реализацией в тексте произведения идеологических установок, насаждаемых партийным аппаратом. Американская славистка Катерина Кларк, основываясь на «официальных речах, произносимых на съездах советских писателей»7, составила «Официальный список образцовых романов» соцреализма, куда, помимо произведений Федора Гладкова, Максима Горького, Николая Островского и многих других, был включен «Чапаев» Фурманова. Рассматривая это произведение в контексте эпохи соцреализма, Кларк, используя современный аналитический инструментарий, отмечает, что «романы соцреализма тяготеют к формам популярной литературы и, как большинство подобный литературных образований, - к формульности. Это делает целесообразным их сопоставление с такими видами формульной литературы, как детективы или романы с продолжениями»8. Советский роман, по Кларк, является «хранилищем мифов»9 и ритуалом10, участвует в создании большевистской идеологии. В числе основополагающих черт романа эпохи соцреализма, Кларк выделяет еще одну важную их черту: агиографичность, восходящую к предшествующей литературной традиции. Установление непосредственных генеалогических связей между христианской и советской литературой является темой отдельного исследования, считает Кларк, но нельзя не отметить, что между обеими этими литературами существуют определенные сходства: клише, штампы, формулы. Так, «если в качестве предмета изображения выбираются реальные исторические фигуры, детали их жизни упрощаются, приукрашиваются или даже игнорируются, чтобы при-
7 Кларк 2002, 223.
8 Там же, 9.
9 Там же, 19.
10 Там же, 23.
близить героя к идеалу»11. Подобное «упрощение», схематизация как сюжетных линий, так и мотивов поведения персонажей позволяет актуализировать мифологическое сознание. Чапаев в романе Фурманова - изначально заданная актанта, герой, о чем автор не переставая упоминает на страницах книги: он носитель «магического, удивительного имени»12, олицетворяющий «все неудержимое, стихийное, гневное протестующее»13, герой, о котором пели «восторженные гимны, воскуряли фимиам, рассказывали про его же чапаевскую непобедимость»14. Одним из ключевых слов романа Фурманова является слово «поход», которое отсылает читателя к рыцарскому роману, хроникам крестового похода; Фурманов пишет о своих героях: «Сражались героями, умирали как красные рыцари»15. Целью похода Чапаева и его соратников является обретение нового царства: «Чувствовалось приближение целой эпохи, новой полосы, большого дня, от которого начнется новое, большое расчисление...»16, а основным вопросом становится: «...быть или не быть тогда Советской России?»17. Особого внимания заслуживает в романе Фурманова речь Чапаева и производимый ею эффект на слушателей. Речь начдива исполнена неявного, сакрального смысл, уловить который не всегда удается, однако героям романа доподлинно известно, что он существует: «- Икспла-таторы, - выговорил с трудом Чапаев... - Оружием-то оружием, - встряхнул головой Чапаев, - да воевать трудно, и то бы что... - Федор не понял, к чему Чапай это сказал, по почувствовал, что тут надо разуметь что-то особое под этими словами»18 и далее: «Кой-где произносил он «речи». Эффект и успех были обеспечены: дело было не в речах, а в имени Чапаева. Это имя имело магическую силу, - оно давало знать, что за «речами», быть может, бессодержательными и ничего не значащими, скрываются значительные, большие дела.»19. Речь Чапаева, темная и непонятная - это речь оракула, проводника высших сил, поддающая множеству трактовок, речь власти. Рассматривая роман Виктора Пелевина в соотнесении с «Чапаевым» Фурманова, можно сказать, что Пелевин уравнивает дискурс власти с галлюцинаторным бредом Григория Котовского - еще одного мифологического персонажа гражданской воны. Чапаев в романе Фурманова - персонаж во многом мифологический, искупающий становление новой власти, нового царства своей жертвой; примечательно, что гибнет он в реке, своеобразном мифологическом пространстве. Вольно или невольно, но Фурманов актуализирует мифологическую матрицу в сознании советского читателя, гибелью Чапаева узаконивая становление нового государства.
Пелевин в своем романе опирается на узловые эпизоды романа Фурманова, инкорпорирует их практически без изменений в свой текст, тем самым обыгрывая
11 Там же, 49.
12 Фурманов 1985, 25.
13 Там же, 57.
14 Фурманов 1985, 93-94.
15 Там же, 165.
16 Там же, 118.
17 Там же, 124.
18 Там же, 62.
19 Там же, 101.
Примечательна сцена на вокзале, перед отправкой поезда, в обоих романах. У Фурманова читаем: « - Я вам скажу на прощанье, товарищи, что мы будем фронтом, а вы, например, тылом, но как есть одному без другого никак не устоять. Выручка, наша выручка - вот в чем главная теперь задача (...) А ежели у вас тут кисель пойдет - какая она будет война?»20. Почти дословно этот фрагмент у Пелевина: «Как есть одному без другого никак не устоять. А ежели у вас кисель пойдет - какая она будет война?»21. В этой сцене Пелевин вводит в действие автора романа «Чапаев» Дмитрия Фурманова:
«Кто-то дернул меня за рукав. Похолодев, я обернулся и увидел короткого молодого человека с жидкими усиками, розовым от мороза лицом и цепкими глазами цвета спитого чая.
Ф-фу, - сказал он.
Что? - переспросил я.
Ф-фурманов, - сказал он и сунул мне широкую короткопалую ладонь»22.
Интересен не только факт введения этого персонажа в роман, но и наличие
у него речевых нарушений, которые пропадают только тогда, когда Фурманов начинает говорить с трибуны: «Говорил он уже не заикаясь, а плавно и певуче»23. Пелевинский Чапаев, рассуждая с Петром о смысле своей непонятной речи, произнесенной с трибуны, говорит: «Знаете, Петр, когда приходится говорить с массой, совершенно неважно, понимаешь ли сам произносимые слова. Важно, чтобы их понимали другие. Нужно просто отразить желание толпы. Некоторые достигают этого, изучая язык, на котором говорит масса, а я предпочитаю действовать напрямую. Так что, если вы хотите узнать, что такое «зарука», вам надо спрашивать не у меня, а у тех, кто стоит сейчас на площади»24.
Таким образом, Пелевин дискредитирует как речь фурмановского героя в частности, так и речь всей советской власти в целом, дискредитирует речь как инструмент власти.
В этом же эпизоде интересно впечатление от толпы, «революционной массы»: насколько оно восторженно у Фурманова, настолько же оно гнетуще у Пелевина. У Фурманова, в романе «Чапаев»: «Федор обвел глазами и не увидел концов черной массы, - они, концы, были где-то за площадью, освещенной в газовые рожки. Ему показалось, что за этими вот тысячами, что стоят у него на виду, тесно примыкая, пропадая в густую тьму, стоят новые, а за теми - новые тысячи, и так без конца. В эту последнюю минуту он с острой болью почувствовал вдруг, как любима, дорога ему черная толпа, как тяжело с ней расставаться»25. У Пелевина: «Было тяжело смотреть на этих людей и представлять себя мрачные маршруты их судеб. Они были обмануты с детства, и, в сущности, для них теперь ничего не изменилось из-за того, что теперь их обманывали по-другому, но топорность, издевательская примитивность этих обманов - и старых, и новых - поистине была бесчеловечна. Чувства и мысли стоящих на площади были так же уродливы,
20 Там же, 10.
21 Пелевин 2003, 99.
22 Там же, 98.
23 Там же, 100.
24 Там же, 101.
25 Фурманов 1985, 9.
как надетое на них тряпье, и даже умирать они уходили, провожаемые глупой клоунадой случайных людей»26.
Второй значимой сценой, позаимствованной Пелевиным у Фурманова, является эпизод в поезде. Он также подвергается ироническому переосмыслению, высвечивающему бессмысленность и идеологизированность фурмановского текста. У Фурманова читаем: «По теплушкам книжная читка гудит, непокорная скрипит учеба, мечутся споры галочьей стаей, а то вдруг песня рванет по морозной чистоте - легкая, звонкая, красноперая:
Мы кузнецы - и дух наш молод, Куем мы счастия ключи. Вздымайся выше, наш тяжкий молот, В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи!!
И на черепашьем ходу вагонном, перемежая и побеждая ржавые песни колес, - несутся над равнинами песни борьбы, победным гулом кроют пространство»27.
У Пелевина в аналогичном эпизоде: «Действительно, сквозь грохот вагонных колес пробивалось довольно красивое и стройное пение. Прислушавшись, я разобрал слова:
Мы кузнецы - и дух наш Молох, Куем мы счастия ключи. Вздымайся выше, наш тяжкий молот, В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи!!
Странно, - сказал я, - почему они поют, что они кузнецы, если они ткачи? И почему Молох - их дух?
Не Молох, а молот, - сказала Анна.
Молот? - переспросил я. - А, ну разумеется. Кузнецы, потому и молот. То есть потому, что они поют, что они кузнецы, хотя на самом деле они ткачи. Черт знает что»28.
В этом эпизоде Пелевин цитирует не только Фурманова, но и раннего себя: «. человек чем-то похож на этот поезд. Он точно так же обречен вечно тащить за собой из прошлого цепь темных, страшных, неизвестно от кого доставшихся в наследство вагонов. А бессмысленный грохот этой случайной сцепки надежд, мнений и страхов он называет своей жизнью»29 - цитата отсылает одновременно к повести «Желтая стрела» и к небольшому эссе «Мост, который я хотел перейти».
Путешествие героев романа Фурманова по степи находит отражение в небольшом очерке «Ночные огни». Описанная здесь атмосфера таинственности, «чертовщины», «заколдованности» использована Пелевиным в его описании путешествия барона Юнгерна и Петра Пустоты в Валгаллу30.
Явной перекличкой с романом Фурманова является эпизод с представлением, спектаклем. У Фурманова: «.пригласили на. спектакль. Что-то необычное. Назавтра такое серьезное дело, тут рядом окопы противника, - и вдруг
26 Пелевин 2003, 99.
27 Фурманов 1985, 14.
28 Пелевин 2003, 109-110.
29 Там же, 110.
30 Пелевин 2003, 267-268; Фурманов 1985, 248-250.
спектакль!»31. У Пелевина: «Сегодня будет своего рода концерт - знаешь, бойцы будут показывать друг другу всякие... э-э... штуки, кто что умеет»32. Восторженное внимание Фурманова в «Чапаеве и Пустоте» сменяется иронией и отвращением: «Конь с двумя х... ми - это еще что. Сейчас перед вами выступит рядовой Страминский, который умеет говорить слова русского языка своей жопой и до освобождения народа работал артистом в цирке. Говорит он тихо, так что просьба молчать и не ржать»33.
Герои романа Фурманова движутся от одного степного города к другому; маршрут можно проследить по оглавлению: многие главы названы по ключевым точкам маршрута Чапаева и его дивизии («Уральск», «Александров-Гай», «В Бу-гуруслан», «До Белебея», «Уфа»). В романе «Чапаев и Пустота» Анна и Петр, сидя в кафе «Сердце Азии», обсуждают положение на фронте. Пелевин иронизирует:
«- А скажите, Анна, какая сейчас ситуация на фронтах? Я имею в виду общее положение.
Честно говоря, не знаю. Как сейчас стали говорить, не в курсе. Газет здесь нет, а слухи самые разные. Да и потом, знаете, надоело все это. Берут и отдают какие-то непонятные города с дикими названиями - Бугуруслан, Бугульма и еще... как его... Белебей. А где это все, кто берет, кто отдает - не очень ясно и, главное, не особо интересно»34.
Ключевой сценой во всех четырех художественных текстах, посвященных Чапаеву, является эпизод его гибели - Чапаев тонет в Урале. В романе Фурманова знак, обозначение, слово равно означаемому, Урал - это река, в которой трагически тонет комдив. Чапаев выполнил свою функцию. У Пелевина мотив смерти Чапаева обыгрывается. Во-первых, Урал у него - это «условная река абсолютной любви», в которой нельзя ни погибнуть, ни утонуть. Пелевин меняет модус повествования, более того, если у Фурманова с гибелью главного героя повествование завершается, то у Пелевина роман продолжается.
Если роман Фурманова является мифом, мифологическим, «тоталитарным сказанием», по выражению Михала Гловиньского35, то Виктор Пелевин, используя мифы о Чапаеве и о советской действительности, инкорпорируя в свой роман фрагменты соцреалистического произведения, создает одновременно и свой миф, и «антимиф», демифологизируя образ легендарного начдива Василия Чапаева.
ЛИТЕРАТУРА
Гловиньский М. 1996: «Не пускать прошлого на самотек». «Краткий курс ВКП(б)» как мифическое сказание // НЛО. 22, 142-160.
Кларк К. 2002: Советский роман: история как ритуал. Екатеринбург.
Липовецкий М. 2008: Паралогии: Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов. М.
Пелевин В. О. 2003: Чапаев и пустота. М.
31 Фурманов 1985, 256.
32 Пелевин 2003, 337.
33 Там же, 343.
34 Там же, 154.
35 Гловиньский 1996, 144.
Пронина Е. 2003: Фрактальная логика Виктора Пелевина // ВЛ. 4, 5-30. Свердлов М. 2003: Технология писательской власти (О двух последних романах В. Пелевина) // ВЛ. 4, 31-47.
Сорокина Г. А. 2007: Буддийские коннотации в повести В. Пелевина «Желтая стрела» // Литература ХХ века: итоги и перспективы изучения / Н. Н. Андреева, Н. А. Литви-ненко, Н. Т. Пахсарьян (ред.). М., 337-344. Фурманов Д. А. 1985: Чапаев. Мятеж. М. Шайтанов И. 2003: Проект Ре1еуш // ВЛ. 4, 3-4.
Шохина В. 2006: Чапай, его команда и простодушный ученик // НГ-Ех иьпб. М.
MYTH ABOUT CHAPAYEV IN V. PELEVIN"S NOVEL "CHAPAYEV
The article presents the analysis of two novels - Victor Pelevin"s "Chapayev and the Void" and D. Furmanov"s "Chapayev". The author considers key episodes of the myth about Chapayev in the light of socialist realism novel and postmodernism novel.
Key words: V Pelevin, D. Furmanov, literary process of the 1990-s, Chapayev.
Виктор Пелевин
Чапаев и Пустота
Глядя на лошадиные морды и лица людей,
на безбрежный живой поток, поднятый
моей волей и мчащийся в никуда по багровой
закатной степи, я часто думаю:
где Я в этом потоке?
Чингиз Хан
Имя действительного автора этой рукописи, созданной в первой половине двадцатых годов в одном из монастырей Внутренней Монголии, по многим причинам не может быть названо, и она печатается под фамилией подготовившего ее к публикации редактора. Из оригинала исключены описания ряда магических процедур, а также значительные по объему воспоминания повествователя о его жизни в дореволюционном Петербурге (т.н. «Петербургский Период»). Данное автором жанровое определение – «особый взлет свободной мысли» – опущено; его следует, по всей видимости, расценивать как шутку.
История, рассказываемая автором, интересна как психологический дневник, обладающий рядом несомненных художественных достоинств, и ни в коей мере не претендует на что-то большее, хотя порой автор и берется обсуждать предметы, которые, на наш взгляд, не нуждаются ни в каких обсуждениях. Некоторая судорожность повествования объясняется тем, что целью написания этого текста было не создание «литературного произведения», а фиксация механических циклов сознания с целью окончательного излечения от так называемой внутренней жизни. Кроме того, в двух или трех местах автор пытается скорее непосредственно указать на ум читателя, чем заставить его увидеть очередной слепленный из слов фантом; к сожалению, эта задача слишком проста, чтобы такие попытки могли увенчаться успехом. Специалисты по литературе, вероятно, увидят в нашем повествовании всего лишь очередной продукт модного в последние годы критического солипсизма, но подлинная ценность этого документа заключается в том, что он является первой в мировой культуре попыткой отразить художественными средствами древний монгольский миф о Вечном Невозвращении.
Теперь скажем несколько слов о главном действующем лице книги. Редактор этого текста однажды прочел мне танка поэта Пушкина:
И мрачный год, в который пало столько
Отважных, добрых и прекрасных жертв,
Едва оставил память о себе
В какой-нибудь простой пастушьей песне,
Унылой и приятной.
В переводе на монгольский словосочетание «отважная жертва» звучит странно. Но здесь не место углубляться в эту тему – мы только хотели сказать, что последние три строки этого стихотворения в полной мере могут быть отнесены к истории Василия Чапаева.
Что знают сейчас об этом человеке? Насколько мы можем судить, в народной памяти его образ приобрел чисто мифологические черты, и в русском фольклоре Чапаев является чем-то вроде знаменитого Ходжи Насреддина. Он герой бесконечного количества анекдотов, основанных на известном фильме тридцатых годов. В этом фильме Чапаев представлен красным кавалерийским командиром, который сражается с белыми, ведет длинные задушевные разговоры со своим адъютантом Петькой и пулеметчицей Анкой и в конце тонет, пытаясь переплыть реку Урал во время атаки белых. Но к жизни реального Чапаева это не имеет никакого отношения, а если и имеет, то подлинные факты неузнаваемо искажены домыслами и недомолвками.
Вся эта путаница связана с книгой «Чапаев», которая была впервые напечатана одним из парижских издательств на французском языке в 1923 году и со странной поспешностью переиздана в России. Не станем тратить времени на доказательства ее неаутентичности. Любой желающий без труда обнаружит в ней массу неувязок и противоречий, да и сам ее дух – лучшее свидетельство того, что автор (или авторы) не имели никакого отношения к событиям, которые тщатся описать. Заметим кстати, что хотя господин Фурманов и встречался с историческим Чапаевым по меньшей мере дважды, он никак не мог быть создателем этой книги по причинам, которые будут видны из нашего повествования. Невероятно, но приписываемый ему текст многие до сих пор воспринимают чуть ли не как документальный.
За этим существующим уже более полувека подлогом несложно увидеть деятельность щедро финансируемых и чрезвычайно активных сил, которые заинтересованы в том, чтобы правда о Чапаеве была как можно дольше скрыта от народов Евразии. Но сам факт обнаружения настоящей рукописи, как нам кажется, достаточно ясно говорит о новом балансе сил на континенте.
И последнее. Мы изменили название оригинального текста (он озаглавлен «Василий Чапаев») именно во избежание путаницы с распространенной подделкой. Название «Чапаев и Пустота» выбрано как наиболее простое и несуггестивное, хотя редактор предлагал два других варианта – «Сад расходящихся Петек» и «Черный бублик».
Посвящаем созданную этим текстом заслугу благу всех живых существ.
Ом мани падме хум.
Урган Джамбон Тулку VII,
Председатель Буддийского Фронта
Полного и Окончательного Освобождения
(ПОО (б))
Тверской бульвар был почти таким же, как и два года назад, когда я последний раз его видел – опять был февраль, сугробы и мгла, странным образом проникавшая даже в дневной свет. На скамейках сидели те же неподвижные старухи; вверху, над черной сеткой ветвей, серело то же небо, похожее на ветхий, до земли провисший под тяжестью спящего Бога матрац.
Была, впрочем, и разница. Этой зимой по аллеям мела какая-то совершенно степная метель, и попадись мне навстречу пара волков, я совершенно не удивился бы. Бронзовый Пушкин казался чуть печальней, чем обычно – оттого, наверно, что на груди у него висел красный фартук с надписью: «Да здравствует первая годовщина Революции». Но никакого желания иронизировать по поводу того, что здравствовать предлагалось годовщине, а революция была написана через «ять», у меня не было – за последнее время я имел много возможностей разглядеть демонический лик, который прятался за всеми этими короткими нелепицами на красном.
Уже начинало темнеть. Страстной монастырь был еле виден за снежной мглой. На площади перед ним стояли два грузовика с высокими кузовами, обтянутыми ярко-алой материей; вокруг колыхалась толпа, и долетал голос оратора – я почти ничего не разбирал, но смысл был ясен по интонации и пулеметному «р-р» в словах «пролетариат» и «террор». Мимо меня прошли два пьяных солдата, за плечами у которых качались винтовки с примкнутыми штыками. Солдаты торопились на площадь, но один из них, остановив на мне наглый взгляд, замедлил шаг и открыл рот, словно собираясь что-то сказать; к счастью – и его, и моему – второй дернул его за рукав, и они ушли.
Абсурд есть истина, притворившаяся ложью ©
Пелевин – автор неординарный и довольно оригинальный. Первое впечатление поверхностное: неплохая фантастика, связанная с историческим сюжетом. На первый взгляд – глюки Марии, да и прочие скачки сюжета сначала раздражают. Впрочем, постепенно втягиваешься, хотя изложение и непривычно. Поэтому, поверхностный взгляд остаётся неплохим. Если смотреть глубже, то автор определенно тяготеет к восточной мифологии и философии. Взять хотя бы видение Пустотой время гражданской войны. С одной стороны всё правильно и логично, с другой, Чапаев и Юнгерн представляют собой людей, распознавших суть бытия, и поэтому нельзя сказать об однозначности произведения. Но при этом они руководствуются восточной мифологией и концепциями. Взять хотя бы аннотацию к роману, где автор сообщает, что действие происходит в абсолютной пустоте. На первый взгляд – это абсурд. Но если присмотреться, все логично. Поэт Пустота живет в двух мирах, при этом, не осознавая какой из них является реальностью, и является ли вообще! Если углубиться в размышления, то Пустота прав. Нет ни этого мира, ни другого, это всё плод воображения, поддерживаемый верой. Как Пустоте говорит барон - боги появляются, когда в них начинают верить. Задумываясь, что из его кошмаров сон, Петр никак не может определиться, поскольку обе реальности слишком изобилуют деталями, чтобы претендовать на психический бред. Чем дальше, тем серьезнее всплывают мысли о бытие, от которых нельзя отвертеться. Поэтому версия барона Юнгерна кажется вполне правдоподобно логичной. В итоге, Пустота приходит к следующему выводу: - Как я только знаю – я уже не свободен. Но я абсолютно свободен, когда я не знаю. Вроде софизм, а вроде и нет. Это как пример с таблицей умножения. Если ты знаешь, что 2×2 = 4, то ты считаешь это единственным верным. Однако, есть и другие системы измерения, где данное уравнение будет наоборот неверным, и даже, не смотря на все приведенные аргументы – ошибочным. Так, если я и впрямь не знаю значение два на два, то могу спокойно заявлять, что это будет равняться пяти или вообще другой цифре. Я не знаю и, поэтому, для меня нет границ. Но как только задумываешься об этом – ты уже НЕ свободен. Никогда нельзя быть уверенным в своей правоте, потому что её не существует. Когда Чапаев спрашивает у Петра об окружающей обстановке, тот отвечает, что не знает. Это самый верный и правильный ответ, так как всё в этом мире субъективно и, как бы кто ни старался, нет возможности познать объективность вещей. В этом плане, что точка зрения автора, что моя собственная – они будут тождественно неверны! Из этого можно сделать вывод, что объективного не существует, а всё остальное есть только в нашем сознании, а поскольку сознание наше тоже не может быть где-то, получается, что мы нигде и всё остальное тоже нигде. Термин «алхимический брак» встречается в двух главах, повествующих от разных лиц. Если опустить его толкование, то очевидно, что речь идет о выборе пути развития для страны: запад или восток? Несмотря на то, что Пелевин однозначно тяготеет к восточному мировосприятию, он не дает однозначного ответа. Оставляя выбор за читателями. В то же время, само описание бреда Марии отталкивает от тяготения к западу и формирует восприятие восточного мировоззрения. Правда, смерть Сердюка также отталкивает, как если бы это было нежелательным стремлением. Таким образом, размышления о загробном мире в бреде Володина уже не кажутся чем-то странным или неуместным. В том числе, догадка Пустоты в конце романа, о том, что реальность создана Котовским, совершенно обоснованна восприятием «русских братков» загробного мира. Одно отвечает другому как само собой разумеющееся. Если смотреть более широко, то автор поднимает такие вопросы, как осознание собственного «Я» (совокупность ли это привычек, памяти и опыта или же что-то большее?) и окружающей действительности. Давая ответы, он преподносит их как многозначные, что не дает оснований утвердиться в своей правоте восприятия, с какого бы угла зрения не подходить. Диалоги Котовского с Пустотой, Петра с Анной, даже врача Тимура Тимуровича, озвучивающего идею о психической энергии, не нашедшей выхода при смене окружающей реальности наделены глубоким смыслом или же, наоборот, абсурдом. Данное произведение нельзя воспринимать ни серьезно, ни как легкое чтиво. Это нечто большее, заставляющее задуматься над разными аспектами жизни. P.S. Хотелось отметить! Глиняный пулемет – удобная штука! Пустота - тюфяк – не умеет девушек соблазнять! Анекдот о Котовском – месть все же сладкая вещь! Запомнившиеся фразы и моменты! Про Париж после визита одного банкира: - Чифирь там даже в моду вошел, называется а-ля рюсс нуво. *** Человек с лицом сельского атеиста. *** Кто создал вселенную? А) Бог; Б) Комитет солдатских матерей; В) Я; Г) Котовский. *** Петька: - Послушайте! А как же шофер? Чапаев вздрогнул и испуганно поглядел сначала на меня, а потом на Анну. - Чёрт возьми, - сказал он, - а я про него и забыл… *** - Вы позволите спросить, из какой психиатрической больницы сбежали? Я задумался: - Кажется из семнадцатой. Да, точно, там у дверей была такая синяя вывеска, и на ней была цифра семнадцать. И еще было написано, что больница образцовая. Машина затормозила. - Я вас дальше не повезу, - сказал водитель. – Вылезайте из машины ко всем чертям. *** - У вас случайно нет такого знакомого с красным лицом, тремя глазами и ожерельем из черепов? Который между костров танцует? А? Еще высокий такой? И кривыми саблями машет? - Может быть, и есть, но не могу понять, о ком именно вы говорите. Знаете, очень общие черты. Кто угодно может оказаться. *** Ассортимент был большой, но какой-то второсортный, как на выборах. *** Довольно скоро они вышли на темную кривую улицу, где стояло несколько ларьков. - Что будем брать? - Я думаю, литр сакэ будет в самый раз. - Сакэ? Разве тут есть сакэ? - Тут как раз есть. Почему, по-вашему, мы здесь офис сделали?
Чапаев и Пустота
Одна из фундаментальных вещей Пелевина построена вокруг одного из самых фундаментальных психологических образов, вокруг архетипа квадрицы. В одной палате психиатрической больницы лежат четверо больных. Каждый поочередно рассказывает свою историю или, точнее, не историю, а описывает свой мир. В одном из миров соответствующий персонаж вступает в алхимический брак с Западом (психический больной Просто Мария - с Шварценегером). В другом - в алхимический брак с Востоком (Сердюк - с японцем Кавибатой). Один из миров - это мир главного героя, Петра Пустоты, который вместе с Василием Ивановичем Чапаевым и с Анной воюет на Восточном фронте (центральный мир повествования). Четвертый мир (рассказчик - свихнувшийся бандит Володин) сам распадается на четыре составляющие части личности рассказчика: внутренний подсудимый, внутренний прокурор, внутренний адвокат и "тот, кто от вечного кайфа прется". Повторная четверица как бы усиливает центральную символику произведения для тех читателей, которые не поняли её из символической фигуры четырех больных в одной палате.
Архетип четверицы, несмотря на формальную простоту сюжета (сумасшедший выписывается из больницы, потому что переживает прозрение, хотя и не то, на которое рассчитывал врач, а именно: больной приходит к выводу, что этот мир иллюзорен), придает произведению глубину, многоплановость.
В тексте обильно представлена и символика, так сказать, второго ряда. Например, фрагмент: "Мы оказались на идущей в гору грунтовой дороге. С левого её края начинался пологий обрыв, а справа вставала выветрившаяся каменная стена удивительно красивого бледно-лилового оттенка", - представляет собой цепь символов, являющихся в сновидениях, которые называют великими сновидениями. Обрыв слева тут означает бессознательное человека, каменная гора справа - это сознание. Подъем символизирует сложность погружения в бессознательное (мешает сознание).
Конечно, Пелевин сам не придумывает всю философскую подоплеку своего произведения. Это же художественный текст. Явным заимствованием являются манипуляции барона Юнгерна с Петькой; они удивительно точно повторяют ритуалы Дона Хуана, учителя Карлоса Кастанеды.
В качестве параллельного сюжета повествования Пелевин намеренно берет жизнь и мысли Василия Ивановича Чапаева. Тут автор совмещает простоту затертых до дыр народной молвой анекдотических образов с философской глубиной и задушевностью бесед этих же персонажей книги. Это противопоставление подготавливает читателя к восприятию основного конфликта произведения, конфликта между реальностью и представлением о ней. Существует ли реально этот мир? Он не более реален, чем тот Василий Иванович, который живет в анекдотах.
Если Айвазовский расписывается на обломке мачты, болтающейся среди волн, то у Пелевина мы встречаем своеобразную подпись, описание стиля писательской работы. В сцене знакомства Петра Пустоты со своей медицинской картой автор по сути дела говорит не о персонаже повествования, а о себе самом, что "его мысль, "как бы вгрызаясь, углубляется в сущность того или иного явления". Благодаря такой особенности своего мышления в состоянии "анализировать каждый задаваемый вопрос, каждое слово, каждую букву, раскладывая их по косточкам".
В книге "Чапаев и Пустота" есть немало любопытных и нравоучительных мест. Мне больше всего запомнилась как бы рекомендация автора, как литератору вести себя с некоторыми критиками: "Будучи вынужден по роду своих занятий встречаться со множеством тяжелых идиотов из литературных кругов, я развил в себе способность участвовать в их беседах, не особо вдумываясь в то, о чем идет речь, но свободно жонглируя нелепыми словами..."